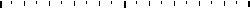 |
Прочитано: 49% |
«««Назад | Оглавление | Каталог библиотеки | Далее»»»
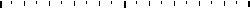 |
Прочитано: 49% |
И это говорит человек, который знает же, обязан знать, что "Архипелаг ГУЛаг" Солженицын начал ещё в 1958 году, пьесу "Олень и шалашовка", ту самую, против которой Твардовский готов был выступить со статьей и даже запретил бы, - в 1954-м, поминавшийся "Пир победителей" - ещё раньше этого лет за пять, что, наконец, и арестован-то он был не за какую-то там прогрессивную критику культа личности, а за самую крайнюю, предельную антисоветчину. Так что, когда Александр Исаевич явился в "Новый мир" и крепко пожал руки его сотрудникам, он уже давно, лет 17-18, имел все основания считать себя вполне кондиционным антисоветчиком, и потому разговоры, что если бы, мол, в середине 60-х годов этому "лагерному волку", как с заячьей почтительностью называет его Лакшин, понежнее почесали за ухом, то "волка" мы видели бы сегодня иным, может быть, даже травоядным, свидетельствуют лишь о незаурядной наивности заячьей породы и о некоторых других её внутренних качествах, не слишком высоко ценимых среди взрослых людей.
Эти качества, кажется, ярче и полнее всего раскрылись в рассуждениях критика о том, что Солженицын "подает нам аввакумовский пример готовности к самосожжению". О, это захватывающий момент! Правда, с самого начала немного недоумеваешь: почему он подает аввакумовский пример? Известно ведь, что Аввакум никакой чрезвычайной готовности к своему самосожжению не выражал, иное дело - сожжение других. Царю Алексею Михайловичу он писал, например, из своего узилища: "Перестань-ко ты нас мучить тово! Возьми еретиков тех, погубивших душу свою, и пережги их, скверных собак, латынников и жидов, а нас распусти, природных своих. Право, будет хорошо". Так-то вот понимал он, что такое хорошо и что такое плохо. Ну, царь не послушал, и был сам Аввакум сожжён - факт бесспорный. Но говорить по этой причине о его "готовности к самосожжению", пожалуй, не менее странно, чем толковать о симпатии медведя к рогатине, которой его запороли. Так что оставим-ка неистового протопопа в покое и посмотрим, где это критик обнаружил "готовность к самосожжению" у Солженицына.
Оказывается, вот: "Ради того, чтобы напечатать "ГУЛаг", рассказывает он в "Телёнке", пришел он к "сверхчеловеческому решению" в случае нужды пожертвовать и собственными детьми". Да, такой увлекательный рассказец в "Телёнке" есть. И мы были правы: Аввакум тут ни при чем, тут гораздо уместнее вспомнить библейского Авраама, пришедшего к сверхчеловеческому решению собственноручно принести в жертву своего единственного сына Исаака. Только Авраам, помнится, принял решение в одиночку и действовал тайно от своей жены Сарры: нож наточил для убийства, дрова приготовил для сожжения тела - все сам, а Солженицын - в полном согласии со своей женой Натальей Светловой, так что, вероятно, нож точил он, а дровишки или там керосин для разжигу готовила она. Какой милый образец согласия и разделения труда в семье!
Многоначитанный наш критик остолбенел от супружеского решения, и первая мысль, которая пришла ему при этом в голову, была, конечно же, мысль о Достоевском (его всегда вспоминают и цитируют, когда речь идет о драматических обстоятельствах, связанных с детьми): "Достоевский бы содрогнулся, услыхав такое". Ну, раз уж опять вызвана великая тень и уверенно высказываются предположения, как бы она поступила, то позволим себе и мы в последний раз коснуться её и тоже кое-что предположить с некоторой долей уверенности.
Думается, Достоевский прежде всего спросил бы Лакшина: "Милостивый государь Владимир Яковлевич! Ответьте мне как дворянин дворянину, почему вы говорите о готовности Солженицына к "самосожжению", когда он-то вел речь о готовности пожертвовать не собой, а детьми, т.е. о "детосожжении", о "сыносожжении"?" Что на это ответил бы Владимир Яковлевич, мы не знаем. Затем Достоевский, пожалуй, спросил бы самого Солженицына: "Батюшка Александр Исаевич! Между нами, гениями, говоря, отчего вы с супругой были столь решительно готовы пожертвовать детьми, когда более пристало тут выказать готовность пожертвовать своей собственной жизнью, а не жизнью другого?" Дружные супруги, возможно, ответили бы в один голос так: "А потому, господин Достоевский, мы говорили о жизни детей, что дети для нас дороже собственной жизни. Имелось в виду, молча подразумевалось, что уж за своей-то жизнью мы и вовсе не постоим". - "Но отчего же молча? - спросил бы Федор Михайлович. - Гласность в таком вопросе не помешала бы".
«««Назад | Оглавление | Каталог библиотеки | Далее»»»
|
| ||||||||
|
|
|
|
||||||