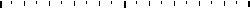 |
Прочитано: 17% |
«««Назад | Оглавление | Каталог библиотеки | Далее»»»
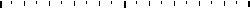 |
Прочитано: 17% |
Но вернемся опять к нашему сопоставлению, заимствованному у западных мудрецов.
Мы усматривали ранее сходство между Достоевским и Солженицыным в том ещё, что у обоих много разного рода претензий к отечественной литературе. Первый из них говорил, что "завел процесс" со всей литературой и вызывает всех на бой. За долгие годы критики достаточно обстоятельно выявили, и в чем состояла особенность этого "процесса", и каков был характер этого "боя". Второй, несмотря на тощие мышцы своего гносиса, не только лезет с кулаками на всю советскую литературу, но хватает за грудки и мировую. И нам теперь надлежит обрисовать кое-какие характерные черты этого идейно-теоретического дебоширства.
Походя бросив в "Архипелаге ГУЛаг" уничижительную усмешку о самом начале советской литературы ("О, барды 20-х годов!.."), наш герой перешел затем к прозе 30-х и сказал о ней, словно гвоздь в крышку гроба вколотил: "Пена, а не проза". Пена! Мыльные пузыри! Стиральный порошок "Лотос"!
Поначалу Солженицын ограничился только одним жанром, прозой, но вскоре исправил недоработку, рассмотрел всю литературу за десятки лет, и грандиозный вывод его таков: "В тридцатые, сороковые и пятидесятые годы литературы у нас не было". Не было - и шабаш!
А когда ж появилась? Ну, если скорбный перечень десятилетий обрывается пятидесятыми годами, а шестидесятые не названы, то, должно быть, именно в шестидесятые? Конечно! Он мог бы даже совершенно точно указать дату её рождения: ноябрь 1962 года - когда напечатали его повесть "Один день Ивана Денисовича".
Для доказательства того, что наша литература до 1962 года не существовала, исследователь-новатор, как мы уже знаем, разработал сложную, богатую и весьма самобытную систему эстетических категорий и терминов, идейно-художественных определений и оценок, прилагая которые к конкретным деятелям и явлениям литературы, он доказывал их мнимость и фиктивность. Допустим, у него встречаются такие незатасканные определения, категории: "жирный", "лысый", "вислоухий"... "бездари", "плюгавцы", "плесняки"... "собака", "волк", "шакал"... и т.д.
Впрочем, словесное недержание, болтливость свойственны стилю этого писателя вообще, а не только его литературоведческим изысканиям. При этом речения самого последнего разбора он использует для характеристики едва ли не всех областей нашей жизни и лиц едва ли не всех сфер деятельности. Например, в "Телёнке", говоря уже о людях, не имеющих никакого отношения к литературе, он постоянно употребляет термины и определения хорошо знакомого нам рода: "шпана", "обормоты и дармоеды", "наглецы", "бараны" и т.д. То же и в "Архипелаге ГУЛаг": "ослы", "змея" и так дальше по схеме, восходящей к особенно хищным и ядовитым зоологическим особям. Он не изменяет своему этическо-стилистическому кредо даже в размышлениях о людях, которых видит впервые и ничего, абсолютно ничего о них не знает. Вот хотя бы: "Идет какой-то сияющий, радостный, разъеденный (разъевшийся? - В.Б.) гад. Кто такой - не знаю". Так и признается, что не знает человека, и все-таки - "гад"! Ему очень просто сказать о совершенно незнакомом даже и так: "Какой, однако, убийца!" ("Телёнок", с. 474.)
Больше того, Александр Исаевич не оставляет своих зоологических определений и в том случае, когда пишет о враче лефортовского изолятора, который, во-первых, опять-таки совершенно незнаком ему, а во-вторых, по собственным же словам, обследовал его "очень бережно, внимательно". Он так пишет о своем благодетеле: "Хорек... Достает, мерзавец, прибор для давления: разрешите?" И позже снова - о том же враче ("Полон заботы: как я себя чувствую?") и о медсестре, давшей ему лекарство: "А, звери!.." (Там же, с. 459.)
«««Назад | Оглавление | Каталог библиотеки | Далее»»»
|
| ||||||||
|
|
|
|
||||||